 Поэзия
Поэзия
 Статьи
Статьи
 Образы
Образы
 Ссылки
Ссылки
Главная
 Поэзия
Поэзия
 Статьи
Статьи
 Образы
Образы
 Ссылки
Ссылки
|
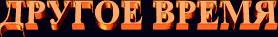
| Страница № 11 |
| - Вот именно, Изамбар! - поспешил прервать епископ. - Ты и
так умрёшь. Золотые слова! По-моему, тебе пора остановиться. Я понимаю твои претензии к
богословам. И даже готов принять, говоря между нами. Я признаю, что плеть - не аргумент в
богословских спорах. Признаю, потому что ты доказал это. Твоё доказательство тождественно
математическому и, по сути, таковым является. Когда врач, который лечил тебя, узнал, что за
три раза тебе дали сто пятьдесят шесть ударов, он сказал, что это невозможно. По его понятиям,
ты должен был умереть как минимум дважды. Оставшись в живых, ты, конечно, имеешь полное право
говорить всё, что хочешь. Из того, что я слышал, пока мне ясно лишь одно: твоё умолчание Filioque -
в высшей степени странный способ поквитаться с богословами за украденный у геометров логос.
По-моему, тебе обидно за геометрию, из которой сделали служанку богословия. Ты исповедуешь её как
веру, освещаешь её своей кровью и собираешься принести ей в жертву свою жизнь и плоть. Я ещё не
встречал такой любви к математике и такой преданности ей. Это внушает уважение, признаюсь честно.
Не сомневаюсь, сам Пифагор не устыдился бы такого последователя, как ты. Но только вот нужны ли
геометрии мученики, Изамбар? Не лучше ли тебе вернуться к твоим задачам? Я с удовольствием
позанимался бы ими вместе с тобой; я просил бы твоих объяснений всякий раз, встречаясь с
чем-то сложным для своего понимания, и был бы уверен, что твои объяснения останутся ясны и
вразумительны, невзирая на степень трудности вопроса. Когда ты решаешь задачи, Изамбар, твоя
логика блестяща. Но богословие на твоём месте я оставил бы богословам, простив им даже их
неуклюжие поползновения в твою обожаемую геометрию. Я проявил бы к ним снисходительность и
великодушие (тем более, что тебе присущи эти качества), а не заражался дурным примером. Со
своей стороны я готов забыть всё, что ты наговорил мне. Никакой ереси я не слышал, Изамбар.
А насчёт Filioque… Где же твоё чувство юмора?! Представь себе, Изамбар, лицо отца настоятеля,
когда он узнает, что причина твоего молчания, скажем, в болезни горла. Он окажется в весьма
неловком положении! Тебя не занимает такая шутка? - Прости меня, Доминик, - сказал тогда Изамбар совсем тихо. - Ты меня не понял. И в этом виноват я. Я почти всё время шучу, а когда вдруг начинаю говорить серьёзно, тебе не уловить разницы. Геометрия, Доминик, для меня игра ума. А разделение неделимого Бога - не игра. Я не хочу делить Его ни на словах, ни в мыслях. Я люблю Бога. Но об этом нужно молчать. - Почему, Изамбар? - Я сказал тебе в самом начале, в моей притче. Я охраняю Бога молчанием. От слов. От человеческих образов. От своих собственных представлений. Именно через Filioque. Через Сына. Я охраняю Его молчанием от разделения и конечности. А Он охраняет меня. И когда меня били, я сливался с Ним в моём молчании, и Он наполнял меня Любовью. То, что я не умер - это чудо моего Бога. И Его Тайна. Я - Его Тайна, как Он - моя. Такое возможно, Доминик. Бог и человек, когда соединяются в Любви, становятся Тайной. Единой Тайной Духа. Это правда. Но её не объяснить никакой геометрией. Есть нечто большее чем логос. Когда разум открыт для бесконечности, а сердце - для Любви, слова немыслимы. Изамбар замолчал и застыл неподвижно, глядя на монсеньора Доминика широко раскрытыми, немигающими глазами. И вдруг медленно опустился перед ним на колени. - Прости меня, - сказал он снова и поклонился с тем глубоким и искренним смирением, с которым приветствовал епископа, когда тот перешагнул порог кельи. - Пожалуйста, прости. - За что же? - удивился монсеньор Доминик. - Может быть, ты и прав, что я защищал геометрию, когда высмеивал богословов с их моделью мира, ибо я вправду люблю геометрию, - ответил Изамбар, оставаясь на коленях. - Но если и так, то лишь отчасти. Я хотел задеть тебя, потому что ты богослов. Но ты добр ко мне. А моё существо вопиёт против твоей доброты: для него было бы лучше, чтобы мне досталась твоя жестокость, а твоя доброта досталась бы кому-то, кто в ней нуждается. Ты понимаешь, о чём я… Сейчас я осознал это очень ясно. Но твоё сердце не в твоей власти, а твоё бремя поистине страшно. Какое я имею право? Прости меня, Доминик… Прощаешь? - Прощаю, - машинально выговорил епископ, поражённый странными словами, за которыми скрывалось что-то очень важное для него, о чём Изамбар почему-то знал намного больше, чем он сам. Откуда? - Я не обижаюсь, Изамбар, - поспешил заверить епископ. - Встань скорее. И расскажи мне дальше. Про плоский и многомерный миры, и про точку во времени. Оставим твоё Filioque, если хочешь. - Подожди, Доминик, - ответил Изамбар, не шелохнувшись и глядя на епископа молящим взором. - Не надо торопиться. Важно, чтобы ты понял меня, раз уж я начал говорить. А чтобы понять, ты должен простить меня по-настоящему, простить в принципе. - Боже мой, да за что же, Изамбар?! Волнение, охватившее монсеньора Доминика, очень походило на страх. Даже на ужас. - Пожалуйста, попытайся осознать то, что я говорю. Это всерьёз, - продолжал тихий мелодичный голос. - Я безмерно благодарен тебе за твоё желание спасти от огня моё тело. Когда ты пришёл сюда в первый раз, позвал меня, взглянул мне в глаза и благословил меня, в тебе сиял Бог. И когда ты попросил звать тебя по имени, Бог был близко. Я счастлив за тебя, Доминик. И если бы я только мог, я с радостью помог бы тебе исполнить твоё намерение. Но, поверь мне, в случае со мной одного этого намерения уже достаточно, как если бы тебе удалось его осуществить. К тому же, ты ведь вытащил меня из ямы, Доминик. Когда ты увидел меня впервые, и в сердце твоё проникло сочувствие, это было бесценным даром Бога. Я знаю, ты считаешь, что со мной поступили несправедливо и неоправданно жестоко. Но я хочу, чтобы ты понял - в том, что со мной делали, нет никакого зла. Так только кажется со стороны. Это подобно тому, как вид стереометрических фигур искажается при переносе на плоскость. Искажение и есть зло. Конечно, мне делали очень больно, так, что каждый раз я почти умирал, но от этого моё сознание не стало плоским. Совсем напротив. И теперь, только теперь передо мной начал по-настоящему раскрываться истинный смысл геометрии, как и смысл моего молчания. Благодаря тому, что со мной сделали… Так где же здесь зло? Это великое благо и бесконечная Любовь моего Бога. Поэтому я прошу у тебя прощения за то, что не принимаю твоей помощи и не хочу спасаться от божественной Любви, в которой исчезнет моя плоть. Когда он говорил это, глаза его опять стали спокойными и ясными. В них не было столь хорошо знакомого монсеньору Доминику характерного лихорадочного блеска, обычного для жаждущих пострадать за веру. Епископу так надоели все эти мученики; он давно раскусил их и видел насквозь. Они искали случая блеснуть своим мужеством и, если мечта осуществлялась, впадали в неизлечимый экстаз. Изамбар был другой. По епископским понятиям, он сочетал в себе несочетаемое: остроумие и сердечную кротость, логику и наивность. И наивность учёного монаха более всего беспокоила монсеньора Доминика, она обезоруживала и возмущала его одновременно. Слушая рассуждения математика, епископ не мог забыть о том, что этого тонкого и умного человека сравняли с землёй, заставив ползать на четвереньках, смердеть и кормить червей, и человек этот говорил лишь об искажении видимости - ему и в голову не приходила мысль о чудовищном унижении его достоинства. И сейчас он стоял перед епископом на коленях. - Давай, наконец, условимся, Доминик, - продолжал Изамбар просительно, - условимся заранее: я уже осуждён и приговорён. - Но Изамбар! - Я не встану, пока ты не скажешь "ДА". Или уходи вовсе, и пусть меня снова бьют. А может быть, ты пошлёшь в город за палачом? Тебе виднее, как следует поступать с упорствующими в ереси монахами. Но тогда я возвращаюсь к моему молчанию, и ты не услышишь от меня больше ни слова. Твоё согласие для меня равносильно прощению. Оно будет означать, что ты сможешь, наконец, забыть хоть на время, что ты богослов. Тебе это нужнее чем мне. Мы сможем говорить с тобой как люди, на одном языке, о геометрии, о цифрах, о звёздах, о Вселенной, о Жизни - обо всём. Как ты хотел, Доминик… Всё, что для этого нужно - согласиться сжечь меня. Согласиться и забыть. - Забыть? Как же можно об этом забыть, Изамбар?! - воскликнул епископ. - Тем более, если я соглашусь! - Очень просто, - улыбнулся математик. - Ведь это будет потом, а не прямо сейчас. Как дети, которым взрослые запрещают ходить далеко от дома. Но дети нарушают этот запрет, потому что хотят узнать и увидеть неизвестное. Они не боятся заблудиться и не думают о том, что их накажут, потому что им интересно, а всё остальное - не в счёт. Это - настоящее! О будущем думает тот, кто уже потерял настоящее. Считай, что я приглашаю тебя в путешествие. Мне нужно лишь твоё "ДА". Вот моя рука, Доминик. Чего ты боишься? Епископ взял тёплую узкую ладонь в свою и думал о том, что эти пальцы невероятно чувствительны и развиты, и, пожалуй, по меткому выражению библиотекаря, в самом деле воспитаны струнами; и о том, что Изамбар - левша и не скрывает этого от монсеньора Доминика, ибо все свои построения монах выполнял левой рукой, с поистине захватывающей скоростью и точностью; и о том, что ладони у них обоих совпадают по длине; и ещё о том, что если бы тогда, давно, когда его звали просто Доминик, человек с такими руками пригласил его с собой в путешествие, он пошёл бы за ним, не задумываясь, хоть на край света… - Встань, Изамбар. Я… согласен, - сказал он, и взор ему заволокло как будто дымом, едким и горьким, а обращённое к нему лицо монаха исказилось, расплылось, потеряло очертания. - Я говорю "ДА", раз ты так хочешь. Я бессилен перед тобой. Если я и буду с тобой спорить, то уже не как епископ и богослов. Ты ведь это хотел услышать? Монсеньор Доминик скорее угадал, чем различил, как склонилась перед ним гладко остриженная голова, зато мягкое прикосновение сухих губ к своей руке почувствовал явственно. |
|
Изамбар, наконец, поднялся. - Так вот, Доминик… Прежде, чем перейти к рассмотрению движения точки в пространстве и времени, нам следует разобраться с геометрией метафизической. Всё у тех же пифагорейцев сложилась традиция изображать числа в виде правильных равноугольных фигур, причём нечисло 1 и первочисло 2 такому изображению не поддаются, так что случай с треугольником вполне закономерен и оправдан, тем более что учение о числовой символике восходит, опять же, к Пифагору и усердно развивалось его последователями. Из этого раздела пифагорейской математики и вышла нумерология. История, Доминик, всё та же, что с Троицей и Filioque у богословов: в начале всё было ясно, ёмко и просто, но потом оно показалось слишком абстрактным, и решили, что нелишне кое-что пояснить и уточнить, и теперь, ты сам знаешь, единого учения о числе не существует. Возвращаясь же к пифагорейскому учению о числе как к истоку, легко обнаружить в нём логическую основу, в свете которой и следует его рассматривать. Знаменитое "Всё есть Число" не означает, что всё подлежит вычислению. Пифагорейский взгляд на математику и мир - взгляд не утилитарный, но мистический. Знание о Числе позволяет прикоснуться к гармоническому принципу Вселенной; такое прикосновение возможно лишь в ясности ума и в смирении сердца, и оно не может не рождать в человеке ещё большее смирение. - Почему ты так считаешь, Изамбар? - А как же иначе, Доминик? Ты видишь, как создано всё сущее и даже словно бы понимаешь Принцип, но постичь его до конца невозможно, ибо в нём - Совершенство, а Совершенству нет предела; чем больше его постигаешь, тем более непостижимым оно предстаёт, и через него - Божественная Мудрость. И Красота! - Например? - Человек. По Пифагору число человека - пять. Именно здесь и заложен принцип, утраченный богословами. Пифагорейцы мыслили пятёрку как сумму первого женского числа "два" и первого мужского числа "три". Учение о женских числах как чётных и о мужских как нечётных прочно укоренилось в астрологии. Исходя из него, астрологи делят людей на лунариев и соляриев в зависимости от даты рождения, согласно принятой символике отождествляя Солнце - с мужским, а Луну - с женским началом, хотя, между прочим, на земле существуют языки, в которых Солнце - женского рода, а Луна - мужского. Пифагорейская же идея вытекает из математических свойств самих чисел. Женское начало мыслится как число, делимое на "два", то есть кратное своему первочислу, которое фактически является первочислом вообще по определению числа как суммы целых. Арифметика древних была наглядной, они складывали и делили в буквальном смысле; для греков же первичной была геометрия. Чётность - числовое отображение геометрического принципа симметрии. Пифагорейцев интересовали правильные симметричные фигуры, абстрактные объекты идеального геометрического мира, отражающие закономерности мира реального и помогающие научиться логике мышления. Симметрия как божественный принцип мироздания и пифагорейской планиметрии для воплощения нуждается в оси. Центр или ось, опора, позволяющая совершить построение, есть начало мужское. Взгляни, Доминик, на мой первый чертёж: прямая равнорасположена относительно всех точек, лежащих на ней. Это полное слияние симметрии со своей собственной относительностью, слияние до неделимости, при том, что прямая в принципе бесконечна. Так и в человеке слиты женское и мужское начала; хоть одно из них зримо воплощено в теле, а другое скрыто, они неделимы. - Постой, Изамбар! Ты ведь отрицаешь двуначалие, - напомнил епископ. |
| Содержание 10 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Страница № 11 12 13 14 15 |
Повесть "Другое время" публикуется в сокращении.
|
Copyright © И.Жарова 2005-2008 |
web design by Alex Wave |