 Поэзия
Поэзия  Статьи
Статьи
 Образы
Образы  Ссылки
Ссылки
Главная  Поэзия
Поэзия  Статьи Статьи
 Образы Образы  Ссылки
Ссылки
|
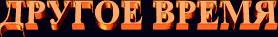
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
| Страница № 36 |
|
Редкий шелест пергамента в густой тишине всегда успокаивал монсеньора Доминика. Тишина библиотек
окутывает своим покровом подобно благодати. Да ведь она и есть благодать книжника - освещает ум,
будит мысль, хранит от суеты… Перед епископом лежала "Илиада", книга говорящих картинок. Взгляд его скользил по изгибам и завиткам фантастических орнаментов, где плоские линии сплетались в выпуклые, почти осязаемые, перетекающие друг в друга формы, и бурлящие волны превращались в поющих сирен, а их раздуваемые ветром волосы - в буквы слова, увязанного в хитрый морской узел. Епископские глаза вглядывались в живые литеры, силясь проследить игру превращений, прочесть формулы образов, но мысли вновь и вновь возвращались к женщине с огненно-рыжими кольцами волос и низким медным голосом. И тишина была бессильна. Она не могла остановить неумолимо летящих сквозь неё минут и часов, уносящих "сегодня" и приближающих "завтра". А завтра тот, в ком встретились морские девы и женщина с трубным голосом, исчезнет, как исчезают корабли под толщей волн, как исчезла она, его Богиня и Сирена. Монсеньор Доминик видел её, как живую: её зелёные кошачьи глаза, слегка пухлые руки и белую кожу. У неё было большое родимое пятно на правом запястье, против среднего пальца, и какой-то мурлыкающе-журчащий, явно иностранный выговор. Слова органиста не несли в себе и тени её образа. Но перо Изамбара возвращало образу жизнь. Эта женщина стала праматерью всех его сирен и дев, таинственных и зовущих в тайну. А сама она была невероятно, отчаянно смелой, пожалуй, и впрямь ему под стать… - Увы, монсеньор! - усталый голос библиотекаря вытащил епископа из морских глубин на гладкую плоскость страницы, а затем - и в привычное пространство, ограниченное четырьмя каменными стенами и загромождённое стеллажами, полками, ящиками, конторками, книгами и молчаливыми людьми. - Увы, монсеньор, ничего. Я не знаю, где ещё искать. Латинских стихов у него немного, и они, конечно, быстро разошлись по рукам, но кто же признается? Брат Изамбар предпочитал греческий, а под настроение - и арабский. Когда он отправился в яму, всё это полетело в костёр. Мне очень жаль. Епископ взглянул на бледного, сутулого, утомлённого человека, от которого веяло обречённостью и бессилием. Тишиной без благодати. Одиночеством… - Мне тоже, - тихо сказал монсеньор Доминик. - Но его переводы останутся. Он много успел сделать за эти восемь лет. Тебе… Вам всем повезло, что он пришёл сюда. - У нас никогда больше не будет такого переводчика, - прошептал библиотекарь, опуская глаза. И тишина стала нестерпимой. Она стояла рука об руку со смертью, дыша на ветхие, рассыпающиеся в прах свитки в книгохранилище, она висела в воздухе страшным приговором, которого никто уже не отменит, давила каменными стенами, сгущалась над головой, сжимала гортань. "Как душно, - подумал епископ, выходя во двор. - Душно и темно!" Он поднял голову. Небо заволокло низкими, грязно-белыми облаками, ветви и листья деревьев в саду застыли, как нарисованные. Здесь было ещё тише - ни шелеста, ни скрипа. Но монсеньор Доминик знал, что время не остановилось, а лишь только притворяется. Оно течёт, и "сегодня" неуклонно переплавляется в роковое "завтра". Епископ слышал это в стуке своего сердца и гуле крови. Время текло через него самого мощным, безжалостным потоком. И звучало. От него было не спрятаться! Болезненно гулко отдавался каждый шаг под сводами узкого коридора. Монсеньор Доминик спешил к последней двери, в маленькую келейку, как в заветное убежище, туда, где царят другая тишина и другое время. |
|
- Ты просто забыл, Эстебан, - услышал епископ, подходя. - Я думал, почему так вышло. Ты ведь не
станешь отрицать, что ровнялся на меня и изо всех сил пытался подражать мне. Это неправильно,
потому что ты - другой. Сила твоего голоса внизу. Доставай звук из глубины, начинай петь тихо,
так, чтобы тебе было легко. И попробуй моё правило. Как только к тебе вернётся твой голос, ты
запоёшь чисто, как раньше, ручаюсь тебе. - Когда я пел чисто, Изамбар? Когда мне было легко петь? Тебе это приснилось! - Я слышал тебя в самый первый день, вечером, в соборе. Ты пел соло. У тебя необычайно мягкий тембр. Твоя фальшь - от натуги. Когда человек поёт СВОИМ голосом, он всегда поёт чисто, поверь мне. Я говорил тебе всё это и раньше, но ты меня не слушал, потому что не принимал всерьёз. Ты даже не помнишь… Я знаю теперь, что мои советы были бесполезны - при мне ты не мог петь, как тогда в соборе. Тебе не помогло даже моё молчание. Я тебе мешаю. Но завтра меня не станет. Ты будешь свободен от наваждения моего голоса и, наконец, вернёшься к своему. Я хочу, чтобы ты пел Эстебан, пел так, как можешь петь только ты. Это важно. Обещай мне… - Изамбар! Я не могу… без тебя… Изамбар!… Слова органиста захлебнулись и потонули в громких рыданиях. - Ты будешь петь, - возразил Изамбар, дождавшись тишины. - Так же легко и свободно, как пел я. Ты уже не сможешь иначе, вот увидишь. Когда меня не будет, я перестану мешать тебе, и даже смогу помогать. Вот, возьми. Я сочинил это для твоего голоса. Епископ отошёл от двери, чтобы не слышать больше душераздирающих рыданий органиста и ласковых увещеваний человека, которому завтра предстояло сгореть на медленном огне и которого гораздо больше заботили нераскрытые вокальные способности товарища. |
|
Снова монсеньора Доминика с обеих сторон давили каменные стены и скучно одинаковые двери
монашеских келий, коридор казался непомерно длинным, а окошки в начале и в конце него,
выходящие в сад, - совсем крошечными, почти не дающими света. "Разве уже сумерки?" - рассеянно
спросил себя епископ, и как раз в этот миг глаза ему полоснуло зигзагообразной вспышкой,
пронизавшей и выбелившей всё кругом, сделав иным, неузнаваемо ярким пол, арки коридора, стены,
двери… Оглушительный грохот сотряс землю, зарокотал под сводами так, что монсеньору Доминику
почудилось - они рушатся и сейчас упадут на его голову. Тело отозвалось паническим, животным
ужасом, пробежавшим по спине снизу вверх мелкой дрожью и застрявшим в голове где-то между
затылком и теменем. В животе разлился неприятный холод. И тишина, расколотая громом, рассыпалась
на мельчайшие крупицы - часто и яростно забарабанили тяжёлые капли, сливаясь в струи, хлеща и
долбя камень, словно надеясь пробить насквозь. "Когда-то это уже было со мною, - подумал епископ, подходя к окну и глядя, как льётся нескончаемый поток воды. - Сумерки, гроза и это непроходящее чувство безысходности. А потом… Что потом?" Сверкнула молния, и прежде, чем грянул грозовой раскат, епископ успел сравнить свою память с серыми сумерками, изредка озаряемыми ослепительными вспышками - никогда не угадаешь заранее, на что упадёт и что успеет ухватить взор в эти случайные мгновения озарений. Встревоженный, он обернулся, и новая вспышка высветила посреди коридора высокую сухопарую фигуру органиста, прижимающую к груди кипу желтоватых листов. Оглушительные дроби дождевых капель и рокот неба заглушали звук шагов. Дождавшись очередного росчерка молнии и убедившись, что коридор пуст, епископ решительно устремился вперёд. Изамбар сидел на своём соломенном ложе, обхватив руками колени. Он лишь чуть повернул голову и молча кивнул гостю. Монсеньор Доминик присел рядом, и ему сразу стало уютно даже в этом грохоте и стуке капель. |
| Содержание 35 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Страница № 36 37 38 39 40 |
Повесть "Другое время" публикуется в сокращении.
|
Copyright © И.Жарова 2005-2008 |
web design by Alex Wave |