 Поэзия
Поэзия
 Статьи
Статьи
 Образы
Образы
 Ссылки
Ссылки
Главная
 Поэзия
Поэзия
 Статьи
Статьи
 Образы
Образы
 Ссылки
Ссылки
|
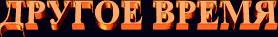
| Страница № 8 |
|
Ждать монсеньору Доминику пришлось ещё целую неделю. Он успел неплохо вникнуть кое в какие приёмы,
используемые Изамбаром в решении астрологических задач. И даже съездил в соседнюю обитель, где
хранил свои собственные практические работы. Наконец, лекарь объявил, что его пациент вполне здоров.
И в третий раз монсеньор Доминик вошёл в дверь заветной кельи. Теперь уже жилец её мог подняться
навстречу гостю. Вот тогда-то и услышал епископ впервые этот необычный голос, умевший сочетать
глубину с высотой и оставаться тихим. - Здравствуй, отче, - произнёс голос, тронув тишину, словно водную гладь, осторожно, но не робко, скорее, с тем же радостным смирением, что столь отчётливо прочли епископские глаза в почерке чудо-переписчика. И Изамбар низко, до самой земли, поклонился. Монсеньору Доминику стало даже слегка не по себе: в поклоне этом не было ни тени подобострастия, но какое-то в высшей степени осознанное, скорбное почтение. - Здравствуй, дитя моё. И поверь, я не стою твоей благодарности, - как будто оправдываясь, поспешил ответить епископ. - Я поклонился не благодеянию твоему и не благим намерениям твоим, но бремени твоему, которое тяжко, - услышал монсеньор Доминик от человека, что совсем недавно лежал вот здесь на залитой кровью постели и смотрел на него чёрными от боли глазами. - Не иго - муки, - опережая епископскую мысль, прозвучало всё так же негромко и мелодично. - Но тяжкое бремя - власть над ближними. Изамбар стоял перед монсеньором Домиником, невысокий, тонкий, скорее стройный, чем худой, хотя веса в нём было не многим более чем в двенадцатилетнем ребёнке. Воистину, человек этот соответствовал своему голосу и воплощал его наиболее совершенно именно теперь, пройдя через муки, которые он не почитал за иго, и едва поднявшись на ноги после болезни. В его хрупкости коренился незыблемый стержень. Этот человек был внутренне и внешне уравновешен и, несмотря на своё ремесло переписчика, не был сутул. Мелодический строй его существа отражался в его теле статью, музыкальной гармонией пропорций. Его не портили ни бледность, ни впалые щёки, ни выступающие ключицы. И глаза его сияли как настоящие самоцветы. - У каждого - свой крест и свой долг, дитя моё, - сказал монсеньор Доминик. - И мой долг в том, чтобы помочь тебе. Скажи мне, Изамбар, дитя моё, во имя чего ты предал себя на страдание и унижение? - Во имя Господа, - был ответ. Так отвечали епископу на этот вопрос все обвинённые в ереси. Абсолютно все! Ему стало обидно, почти больно оттого, что даже Изамбар, эрудит и математик, здесь не оригинален. Но снова проницательные глаза уловили движение мысли собеседника, и голос, подобный лёгкому перезвону хрустального колокольчика, продолжил: - В одном городе жили два влюблённых юноши. Первый всюду твердил о любви своей и имя возлюбленной своей повторял каждый час до семижды семи раз, и прелести её восхвалял перед друзьями. Второй же влюблённый молчал о возлюбленной своей, но сердце его воспевало её до семижды семи раз в каждом ударе. Но не потому лишь молчал второй влюблённый, что не поспел бы язык его за сердцем его. Полагал он в уме, что возлюбленная его больше, нежели имя, данное ей от рождения земного, а красота и добродетели её неизреченны на языках человеческих. И так хранил он любовь свою в молчании. Монсеньор Доминик сразу ухватил рациональное зерно. - Очевидно, что второй любил свою возлюбленную во столько раз сильнее, чем первый - свою, сколько ударов делает в среднем сердце человека за час. - Прости меня, отче, за эти цифры, - смущённо улыбнулся Изамбар. - Я привык всё иллюстрировать цифрами, забывая о том, что они порой слишком отвлекают от самого предмета… Это не математическая задача, отче. Это притча. Впрочем же, и не вполне притча. Здесь нет ни конца, ни морали, как нет их в любви. Любовь беспричинна и бесконечна. И как всё бесконечное, она неизмерима. Поэтому и не говорится, чья любовь больше. Просто первый влюблённый не мог вместить любви своей, ибо сердце его не расширялось. И вот, он говорит друзьям о прелестях возлюбленной своей. Что станет с ним и любовью его, как ты разумеешь, отче? - Не знаю, Изамбар, дитя моё, - пожал плечами епископ. - Спроси это у того, кому случалось любить женщину. - Когда юноша похваляется перед друзьями возлюбленной своей, любовь его уже не есть неизреченная тайна, а всего лишь история, доступная чужим ушам и языкам. И если не раскроет влюблённый юноша сердца своего, любовь уйдёт от него с шумом молвы, как вода уходит в песок, и забудется, как всякая молва. Иначе - второй влюблённый. Он бережно хранит любовь в сердце своём, лелеет её, как садовник - дерево. Любовь растёт, расширяя сердце. Сердце же человеческое расширяется всегда через муку. Но счастлив хранящий на устах печать. Ибо золота молчания он не меняет на серебро слов. И любовь его уподобится неразменной монете. Изамбар подошёл к окошку своей кельи и встал в падающем на него тонком луче света, сам тоненький и гибкий, как стебелёк. Движения его гармонировали с голосом - в них была созвучная мелодика. - Но дитя моё, не забывай о том, что всё тайное становится явным, - заметил монсеньор Доминик, глядя в сказочные глаза, на солнце вдруг засверкавшие чистой бирюзой. - Я не забыл, отче, - отозвался Изамбар легко и просто. - Ведь со мной это случилось. - Он улыбнулся. - Я знал, что так будет. - Если я верно понял твою притчу, умолчание Filioque, в котором тебя уличили, означает не его отрицание, но выражает глубину твоего почтения к тайне исхождения Духа Святого. Я уловил мысль? - Ты умён, отче, - наклонил голову Изамбар. - Ты тоже отнюдь не глуп, - поспешил подхватить епископ. - Так считают все в этой обители. И я, признаюсь тебе честно, просмотрев кое-что из оставленного тобой в библиотеке, скажу больше - ты потрясающе умён и талантлив, Изамбар. Так объясни мне ради Бога, что помешало тебе защищаться и отвести от себя обвинение? - Но, отче мой, ведь я монах! - сказал тогда Изамбар, и епископ видел, что он искренне удивлён подобной мыслью. - А монах не оправдывается и не защищается. Так меня учили, когда я ещё только собирался стать монахом. И я принял это в своё сердце. Когда монаха обвиняют - он целует землю, когда монаха хотят бить - он ложится на неё. Монах не судит о том, справедливо ли с ним поступают - он свободен от этого. - Но ведь всему же есть предел, дитя моё! - заметил монсеньор Доминик. - Прости меня, отче, но это не так, - с живостью возразил Изамбар. - Любовь бесконечна. И Сам Господь - беспредельная тайна. А если ты знаешь математику, в ней есть понятие бесконечного множества. Есть прямая - она бесконечна… Епископ глубоко вздохнул. Он понял, кто перед ним. Изамбар был истинным, чистейшей воды мистиком, какие встречаются именно среди математиков. Математика до такой степени оттачивает в этих людях рациональное, что другая, иррациональная половина их существа высвобождается вослед, уже не зная никаких ограничений. А геометрия и сама по себе способна служить источником вдохновения для мистика, заворожёнными её всеобъемлющими очевидностями. - К тому же в моём молчании, отче, больше, чем просто умолчание, - продолжал Изамбар, оправдывая епископские догадки. - Это принцип, на котором я стою и буду стоять до конца. - То есть, дитя моё, для тебя принципиально важно непроизнесение этого одного единственного слова в тексте Credo. Произнесение же его имело бы далеко идущие последствия, внося разлад в твою совесть и нарушая твою связь с истиной. Так? - Так, отче. - От тебя же требовали именно произнесения данного слова. И требование по-прежнему в силе. - Да, отче. - И ты снова готов отправиться в яму и лечь под плети? - Да, - ответил тихий чистый голос, и глаза Изамбара на миг потемнели, словно тень пробежала по ним. - Тебе дана власть, отче. Прикажи, чтоб меня сожгли. Но если ты предашь меня в руки отца настоятеля… Всё начнётся с начала. Ну что же, ведь я монах! Этот человек даже не помышлял о спасении. И не испытывал страха перед смертью. Впрочем, и не мудрено после пережитого им ужаса ямы. Но он соглашался вернуться даже туда - вот что ужаснуло самого монсеньора Доминика. - Изамбар, послушай меня! - почти взмолился епископ. - Я ведь обещал тебе мою защиту. Я сказал, что хочу тебе только блага. Повторяю вновь, что не желаю тебе страданий ни плотских, ни душевных. - Ты добр ко мне, отче, - Изамбар одарил монсеньора Доминика самой открытой и тёплой улыбкой. - И доброта твоя дорога в очах Господних. Ты сам не знаешь, сколь дорога! Мне же дорога Любовь Господа, дивная и беспредельная. Потому не стану противиться мукам, дабы расширилось сердце моё. - Неужели ты хочешь страдать, Изамбар? - спросил епископ упавшим голосом. - Я хочу приять дар Господа, - был ответ. - Ибо каждый дар Господа - одна из граней Любви Его. В страдании - дар совершеннейший. Теперь я знаю это. - Я верю тебе, - сказал монсеньор Доминик после паузы и не без усилия. - Но я хочу понять тебя. Объясни мне, Изамбар, дитя моё, что это за дар. - Дар нельзя объяснить, - снова улыбнулся Изамбар. - Его можно лишь принять. - Ну, хорошо, - епископ тяжело вздохнул. - Пусть так. Оставим это пока. Вернёмся к твоему принципу. Будь добр, объясни мне хотя бы его. Что стоит за твоим умолчанием кроме почтения к божественной тайне и готовности к страданию? Ты не должен уклоняться от ответа, Изамбар. Я знаю, что ты владеешь логикой и искусством доказательства. Я взываю к твоему разуму и к твоей щедрости. Мне важно понять тебя и твой принцип. Окажи мне милость. Я не шучу, Изамбар, поверь мне… Монсеньор Доминик бессильно развёл руками, не зная, что ещё сказать. - Я понимаю, отче, - легко согласился Изамбар, делая движение навстречу собеседнику. - И я постараюсь объяснить тебе как можно лучше. Только это не так просто… Точнее, это достаточно просто, если обратиться к математике. Прости меня, отче: именно к математике, но не к богословию… - Лично я никогда не находил противоречий между богословием и математикой, - заверил монсеньор Доминик. - Поэтому отбрось всякое смущение сразу и говори так, как тебе проще и привычнее. Тем более, что для меня и предпочтительней именно математическое объяснение, ибо, скажу честно, Изамбар, твои геометрические идеи чрезвычайно меня заинтересовали. - Я догадался, - признался Изамбар. - Ещё тогда, когда ты вошёл сюда в первый раз. Я расскажу и объясню тебе всё, что ты захочешь. Но это касается только математики. Поскольку она интересует тебя прежде всего, тебе стоит согласиться на моё условие. А оно таково: не пытайся узнать обо мне больше, чем я могу сказать. И ещё прошу тебя, отче, не надейся спасти меня. Если я смогу поделиться с тобой знаниями, которых тебе недостаёт - пусть это будет моим даром. Ты ничего мне не должен. - Но Изамбар! Твоё второе условие невыполнимо! - искренне запротестовал монсеньор Доминик. - Как человек, и тем более как епископ, я обязан попытаться! Оставь мне надежду! Ты молод, у тебя светлый ум… Будет обидно, если… - он запнулся. - Ты невнимательно меня слушаешь, - грустно заметил Изамбар. - Соберись с мыслями, отче, иначе ты не поймёшь моих формул, которые, догадываюсь, интересуют тебя больше всего. Условие я поставил только одно. Второе - просьба. Я всего лишь прошу не жалеть меня и не чувствовать себя в долгу передо мной. Ты ведь сам хочешь, чтобы я начал со своего принципа. Имей в виду, что я молчал бы о нём, если бы ты не попросил у меня объяснений. Как только я начну говорить, ты поймёшь, что обязан сжечь меня. Именно потому, что я монах, а ты - епископ. Я принимаю это как должное. Прими и ты, отче. Кристальной ясностью повеяло от слов Изамбара. Монсеньор Доминик чувствовал себя противоречивым и запутанным рядом с этим хрупким человеком, что стоял перед ним, опираясь рукою о стену, и говорил так прямо о том, о чём епископу вовсе не хотелось думать. Ему было неловко перед Изамбаром так, словно тот был зеркалом, в которое смотрелась епископская душа, смотрелась и цепенела, особенно когда монах просил сжечь его без всякого смущения и называл монсеньора Доминика "отче". Это слово в устах Изамбара каждый раз звучало проникновенно почтительно, даже когда он упрекнул епископа в невнимании. Слово из прошлого, уже такого далёкого, что как будто бы чужого. Но оно до сих пор согревало и звало. Как может тот, кого так называют, не пытаться спасти, помочь, защитить? "Отче Доминик"… Так звали кого-то другого. А ещё раньше был просто Доминик. Доминик, который тоже любил греческие книги и даже увлекался Евклидом. Тот Доминик, у которого за все годы не было ни одного друга… - Изамбар, у меня тоже есть к тебе просьба. Пожалуйста, пока нас никто не слышит, зови меня просто по имени. Меня зовут Доминик. - Доминик? Глаза их встретились близко-близко и раскрылись одинаково широко. - Так мне будет легче, - прошептал епископ. - И тебе тоже. |
|
- Хорошо, - улыбнулся Изамбар. - Хорошо, Доминик. Так с чего мы начнём? С моего принципа? - А может быть, Изамбар, лучше с точки? Ты пишешь о точке как о Начале… - Евклид тоже, - напомнил Изамбар. - Ты прав, Доминик. Принцип вытекает из геометрической очевидности. Всегда. А геометрия начинается с точки. - Садись, Изамбар. Вот, я всё тебе принёс. Твои закладки, чистые листы, перо, чернильницу… Здесь… Да, именно здесь у тебя сказано: "В Начале было Начало, Вещь в себе. В богословии - слово, в геометрии - точка". - Да, Доминик, я помню. Ну, что же… - он внимательно посмотрел на собеседника. - Ты сам этого хотел. Я предупреждал тебя… Изамбар снова улыбнулся, грустно и, казалось, с прежним почтительным сочувствием к тяжкому бремени епископской власти, помолчал и начал: |
| 6 7 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Страница № 8 9 10 |
Повесть "Другое время" публикуется в сокращении.
|
Copyright © И.Жарова 2005-2008 |
web design by Alex Wave |