 Поэзия
Поэзия
 Статьи
Статьи
 Образы
Образы
 Ссылки
Ссылки
Главная
 Поэзия
Поэзия
 Статьи
Статьи
 Образы
Образы
 Ссылки
Ссылки
|
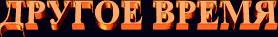
| Страница № 16 |
|
- Всё это правда, Доминик, - продолжал Изамбар. - Всё, что я рассказал тебе о точке и времени.
Я предполагал, допускал, догадывался… А теперь знаю, потому что видел и слышал. Я испытал
абсолютную боль, такую, от которой структура нашего человеческого существа оказывается на
грани распада. Я был пронизан болью и преломлён ею. Моё время остановилось. Это самое важное
свойство боли - она останавливает наше внутреннее время. Секунда растягивается в вечность.
Боль проходит через нас, как поток бесконечной длительности. Я сказал, что это встреча с
бесконечностью нашего конечного тела. Абсолютная боль, если мы готовы принять её, заставляет
нас перестать быть телом. И когда нам это удаётся, её можно видеть как поток и слышать как звук.
И даже попытаться осознать, что она такое по отношению к нам. Я попытался, Доминик. И знаешь, что
оказалось? Из этого трёхмерного мира через боль можно прикоснуться непосредственно к
бесконечности. Я хочу сказать, что именно боль открывает нам тайну, чем являемся мы по
отношению к бесконечной Вселенной. Каждое живое существо имеет внутреннюю структуру,
подобную структуре самой Вселенной, но оно способно воспринимать поток вибраций в конкретно
определённом, ограниченном диапазоне. Можно предположить, что этот диапазон придаёт форму и
нам, и нашему миру. Мы подобны музыкальным инструментам. Впрочем, не только подобны, но и
являемся таковыми. С той разницей, что как существа осознающие, мы способны и призваны к
самосовершенствованию. Я говорю о способности пропускать через свою структуру вибрации всё
более и более широкого диапазона. Принять что-либо как явление бесконечной Вселенной, то есть
дар Бога и неизменно позитивную данность - значит не просто согласиться мысленно, убедив себя
и доказав себе логичность такового явления, но настроить себя как инструмент восприятия.
Вибрации, которые мы не в состоянии пропустить сквозь себя из-за недостаточности нашего
диапазона, мы ощущаем как боль. В лучшем случае это подобно игре на расстроенном инструменте.
Но вибрации, к восприятию которых мы не готовы, способны нас разрушить. Когда я говорил о расширении сердца, это был не просто поэтический образ. Как и моя модель, состоящая из плоскостей, сходящихся в одной прямой - не просто отвлечённое построение. Прямая изображает движение точки нашего сознания. Сходящиеся в ней плоскости образуют миры. В бесконечной Вселенной миров бесконечное множество, подобно тому, как плоскость содержит бесконечное множество точек, а прямая может быть продолжена до бесконечности. Трёхмерность нашего общего мира, вероятно, связана с определённым ритмом и скоростью человеческого времени, в силу некоей математической пропорции, а так же за счет того, что сознание людей объединено в одно общее целое и выстроено примерно одинаково, в заданных пределах и системе измерений. Но если освободить сознание и изменить восприятие времени, изменяется и мир. Когда моё время остановилось… - Изамбар понизил голос: - Это было со мной трижды, а в четвёртый раз, тогда, когда ты пришёл сюда впервые - уже иначе. В первые три раза я умирал и в самый первый уже почти умер, прежде чем у меня получилось, - сообщил он доверительно. - Что получилось, Изамбар? - спросил епископ, переводя дыхание. - Перестать быть телом. Вернуться в точку. И тогда боль перестала быть болью, превратившись в поток бесконечной длительности. Я увидел его, как сияющие струи или нити, и позволил увлечь меня с собой. И пространство стало разворачиваться. Из крохотной точки, в которую я сжался, возникали миры и пространства. Я видел Вселенную, и в ней - иные Вселенные иных времён и пространств, и всё - из точки, и подобно точке, неделимо. Я видел Космос, Доминик. Планеты, светила, созвездия мчались сквозь меня потоком бесконечной длительности, когда я сжал себя в точку и отдался этому потоку; и он растянул меня, как неограниченно упругую струну, способную издавать беспредельно высокий звук. Они звучали, эти миры, пространства и светила. И звуком было всё, что я видел, и я сам. Единым всепроникающим Звуком! Теперь я знаю, что вся наша земная музыка, распадаясь на ноты и такты, силится описать его многоголосье. И языки людские мчатся ему вдогонку своими гласными, но никогда не догонят, шелушась словами и запутываясь в мыслях. И лишь математика древних, простая и мудрая, внимательно и терпеливо подбирает соотношения, универсальные пропорции, описывающие бесконечную геометрическую прогрессию творения. Теперь я знаю, что божественное созидание Вселенной никогда не прекращалось. Я видел, как пульсирует неделимая точка, я слышал её вибрацию. Я сделался точкой и отдался звуку. Я видел бесконечно расширяющиеся кольца волн в бесконечном множестве плоскостей. Я сам превратился из точки во Вселенную, бесконечную, неделимую, но содержащую в себе бесчисленное множество миров. В любом пространстве любая плоскость содержит бесчисленное множество точек, заключающих в себе бесчисленное множество миров! Всё непрестанно расширяется, множится, растёт и ветвится, подобно живому дереву, и остаётся неделимым, не допускающим разъятия, как всякая живая плоть, как Евклидова точка. Теперь я знаю это. Знаю, потому что моё человеческое время, суетное и дробящееся, навязывающее границы и формы потоку созидающих вибраций, было остновлено. Я побывал во множесте миров с иными измерениями времени и пространства. Я видел, как не касается друг друга то, что пересеклось, и как пересекается параллельное, как вода струится вверх подобно огню, и как живые существа проходят одно сквозь другое, словно облака тумана. Я знаю теперь, что нет ничего невозможного. Десяти жизней мне бы не хватило для того, чтобы описать всё, что я видел, и мне мало человеческих тональностей и нот, чтобы выразить услышанное мною. Я познал нечеловеческую тонкость оттенков цвета и звука, неземную скорость превращений, свободу перемещения… Монсеньор Доминик слушал, улавливая всё более тонкие оттенки в мелодических переливах вдохновенного голоса, не в силах оторвать взгляда от самоцветов колдовских глаз, сияющих всеми цветами радуги. Зрачки в них то расширялись, то сужались, обнажая новый цвет. Они были светло-бирюзовыми, эти глаза; потом стали темнеть, словно морская волна набежала на них; зелень просияла и исчезла, спрятавшись в синеве, но вот и синева растворилась в черноте зрачка, и снова они - светло-карие, лучисто тёплые (должно быть, это их любимый цвет). Они живут своей особой, свободной жизнью. В отдельные мгновения монсеньору Доминику казалось, что миры, о которых говорил математик, отражаются в них, сворачиваясь и разворачиваясь один за другим. А руки Изамбара меж тем не дремали: перо и циркуль продолжали свой головокружительный танец в объятьях ловких длинных пальцев; из-под них выходили фантастические, непостижимые построения. И когда монсеньор Доминик, наконец, опустил глаза на эти чертежи, за тонкими линиями ему почудились нескончаемые, непроходимо запутанные лабиринты, мертвенный холод звёзд и чернота ночного неба. Мучительное чувство тоски и одиночества охватило его властно, как никогда прежде, сдавило сердце. И мукой стало слушать о других мирах и чуждых пространствах, мукой - думать о них. - Изамбар! - воскликнул он, не помня себя. - Изамбар, как же ты вернулся назад?! - Не знаю, Доминик, - с блаженной беззаботностью отозвался математик. - Я не помню этого. Помню только, что я не боялся заблудиться. - Не боялся? Ты не боялся затеряться в отдалённых уголках этих леденящих пустот и блуждать там одиноким призраком целую вечность? - Я ничего не имею против вечности в бесконечной Вселенной. Ведь это Вселенная бесконечного Бога. В ней нет пустот, разве ты не понял, Доминик? Она переполнена, всё в ней непрестанно движется, творится и обновляется. Она дышит Жизнью, Духом Создателя, - тихо и торжественно произнёс математик. - О чём ты говоришь, Изамбар? Где здесь Создатель, в этих лабиринтах и чёрных безднах, в этих со свистом вращающихся сферах, разверзающихся, точно пасть дракона, в этих насквозь пронзающих звуках и набегающих волнах, от которых нет спасения?! - кричал монсеньор Доминик и дрожал всем телом от страха и ярости, внезапной и неизъяснимой. -Я не спасался от них, Доминик. Я отдавался всему, что настигало меня. И я понял, что там нет смерти. И я вернулся назад, в мою плоть, которая исходила кровью здесь, на земле. Я возвращался в неё за смертью трижды. И всякий раз смерть ускользала от меня. А в четвёртый раз… Зрачки Изамбара снова выросли, затопив разом все оттенки мерцания сказочных глаз, и монсеньору Доминику вдруг почудилась в этой черноте та же пульсация, что он видел в них тогда… Тогда, когда епископ был здесь впервые… Он опять смотрел в те же чёрные солнца. Но теперь видел в них и вибрацию точки, и кольца волн, бегущих от упавшей капли, и сферы-вселенные… Всё, о чём говорил этот странный, непостижимый, невероятный человек, смотрело теперь его глазами на монсеньора Доминика. Там отражалась бесконечность. Холодея от ужаса, епископ силился оторвать от неё взгляд, и чувствовал, что тонет. Но Изамбар смиловался над ним, и глаза математика вновь сделались человеческими, тёплыми, светло-карими. - В четвёртый раз, Доминик, я был здесь и там одновременно, так, как если бы меня было двое, - очень просто, как нечто само собой разумеющееся, сообщил Изамбар. - Впрочем, даже не двое, а трое, - поспешно поправился он. - Один оставался в плоти и чувствовал как плоть; другой наблюдал того первого и людей, что были рядом, но смотрел не с какой-либо стороны, а отовсюду, словно заполнял всю комнату; третий же сжался в точку и, отдавшись потоку, отправился в новое путешествие. И тогда я осознал, что могу расслаиваться и дальше, подобно луковице: то, что видит во мне, то, что слышит, то, что мыслит, то, что чувствует боль, будут отделяться и отдаляться одно от другого, а это и есть смерть, разрушение структуры. И я понял, что умираю. А, поняв, вспомнил, что это уже было со мной. Я вспомнил, что умирал трижды, а когда возвращался назад из других миров, забывал свои путешествия, как часто забывают сны после пробуждения. Тогда я умирал в беспамятстве, теперь же сознавал и помнил. Тот четвёртый раз стал бы последним, если бы не ты, Доминик, - неожиданно признался математик. - Ты попросил меня не умирать, и я не умер, потому что в тебе был Бог. Он прогнал мою смерть твоими глазами, твоим голосом. Епископ вспомнил о листах, исписанных мелким изящным почерком, о формулах и уравнениях, которых ему никогда бы не понять самому, если бы Изамбар умер, и горько устыдился. - Бог сиял в тебе ярко, Доминик, поверь мне, - убеждённо повторил Изамбар. - Что бы ты о себе ни думал, для бесконечного Бога это не помеха. Ты помог мне соединиться с Ним, как помогали мне мои братья… - Твои братья? - непонимающе переспросил епископ. - Когда они наносили мне удары. В их ударах была любовь, - сделал Изамбар ещё более странное признание. - Я её чувствовал. Они любят меня. Раньше я не думал об этом, а теперь знаю. - Отнюдь не все, уверяю тебя, - решительно возразил монсеньор Доминик, отчего-то вдруг ощутив сильное раздражение. Изамбар покачал головой: - Они любят меня, - повторил он безмятежно. - Почему ты так уверен? - Их удары раскрывали мне Любовь Бога; и в Ней - далёкие миры Его бесконечной Вселенной. В их ударах была любовь, и моё сердце ответило на неё так же, как ответило на твоё благословение. - Изамбар наклонил голову и прибавил примирительно: - Не пытайся объяснить это, Доминик. Любовь непостижима. Для неё нет невозможного. Епископ принялся спорить. Ему живо припомнился и толстый настоятель, и рябой Себастьян, и органист с его дьявольской ревностью. Изамбар качал головой. - Всё это неважно, - сказал он в ответ на длинную епископскую тираду. - Как ты не понимаешь, Доминик? Всё это лишь видимость. Разве не тому же учит твоё богословие? - Ты же сам добивался, чтобы я забыл его! - почти возмутился епископ. - Только затем, чтобы ты оставил в покое свои скрижали прописных истин, - грустно улыбнулся математик. Изамбар вздохнул совсем печально и, помолчав, вдруг спросил в упор: - Ты веришь в Бога, Доминик? |
|
Епископ вздрогнул и отшатнулся. Ему показалось, будто в этот миг в окно кельи влетело что-то
большое и тяжёлое; оно метило именно в него, епископа, но, не достигнув цели, гулко рухнуло на пол.
Монсеньор Доминик уставился туда, где оно упало, но там ничего не было, потому что ничего не
падало. Епископ поднял глаза и увидел, что на подоконнике сидит маленькая серая птичка. - Ты что-то сказал, Изамбар? - спросил он с нарочно рассеянным видом. Изамбар снова покачал головой. Но это не был жест отрицания. -Я сказал тебе всё, что хотел, и даже больше, - произнёс он чуть слышно и отвернулся. Долгое, мучительно долгое молчание натянулось тонкой струной и, казалось, вот-вот зазвенит. Оно было похоже на боль, как её описывал Изамбар. Так подумалось монсеньору Доминику. Скромные серые птичьи пёрышки совершенно сливались с грубо отёсанным камнем, так что епископ усомнился, не почудилась ли ему пичуга, но вот она завертела остроклювой головкой, высматривая крошку или зёрнышко, и запрыгала на своих тоненьких ножках. Поравнявшись с монсеньором Домиником, птаха неожиданно остановилась и, наклонив головку, воззрилась на него чёрным, круглым, невозмутимо строгим птичьим глазом, обведённым тонким оранжевым ободком. Глаз был птичий, но взгляд, епископ мог поклясться - совершенно человеческий, осознанный и явно неодобрительный. Как будто маленький серый комочек отлично знал, кто стоит перед ним. Епископу стало жутко и в то же время смешно. В недоумении смотрел он на длиннопалые лапки, ловя себя на неуместном мальчишеском желании схватить за них эту маленькую наглую птичку, что смеет так смотреть на него, монсеньора Доминика. Птичка, казалось, поняла, как сильно искушает она епископа, взмахнула крылышками, вспорхнула и уселась на остро выпирающую из-под кожи ключичную кость Изамбара, словно на жёрдочку. Когтистые лапки расположились у самого края длинного рубца, пересекавшего наискосок всю шею, стройную и гибкую, как у девушки. Снова, как в начале разговора, Изамбар стоял, опираясь рукой о стену. Но теперь епископ заметил и глубокое дыхание, и часто бьющуюся голубую вену на шее, и землистую бледность кругов под глазами, отчего глаза казались ещё больше, а за их кристальной ясностью угадывалось нечеловеческое напряжение. Вот Изамбар покачнулся и прислонился к стене спиной. Птичка осталась спокойно сидеть у него на плече, нахохлившись и взирая на монсеньора Доминика с прежним неодобрением. - Теперь я могу рассказать тебе об астрологических таблицах и современной арабской алгебре, - произнёс, наконец, математик. - Раз я обещал, я сдержу своё слово… "Боже мой, как он истощён!" - подумал епископ вместо того, чтобы воодушевиться долгожданными словами. - Завтра, Изамбар, - сказал он вслух. - Ты был болен. Тебе пора отдыхать. У нас ещё есть время. Я приду к тебе завтра. - Тогда оставь мне твои задачи, - предложил Изамбар. - Те, в которых затрудняешься. Я решу их. А заодно буду знать, с чего начать завтра. - Вот, Изамбар, они все здесь. - Хорошо, Доминик. И не забудь принести тот старый арабский учебник вместе с моим переводом. Когда епископ выходил из кельи, странная птица вспорхнула и вылетела в окно. |
Конец первой части |
| 11 12 13 14 15 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Страница № 16 Содержание 17 |
Повесть "Другое время" публикуется в сокращении.
|
Copyright © И.Жарова 2005-2008 |
web design by Alex Wave |