 Поэзия
Поэзия  Статьи
Статьи
 Образы
Образы  Ссылки
Ссылки
Главная  Поэзия
Поэзия  Статьи Статьи
 Образы Образы  Ссылки
Ссылки
|
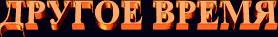
| Страница № 33 |
|
Солнце уже заклонилось к весне, а лютня Изамбара пылилась без дела. Он продолжал свои посещения,
но всё реже, и часами просиживал над каким-то трактатом, который взялся перевести на латынь. Где
он добыл эту книгу - понятия не имею. Не удивлюсь, если за время, пока я грелся дома у тёплого
очага, он успел завести в городе новое таинственное знакомство. Так или иначе, Изамбар читал и
писал невероятно быстро уже тогда, и обращение с книгами было ему привычно. Он закончил работу
прежде, чем учитель успел заметить его ночные бдения в холодной мансарде, от которых пришёл бы
в ужас. А весной, когда даже безголосые птицы заливаются соловьями, а уж от Орфея не ждали ничего другого, он вдруг изменил музыке откровенно и без зазрения совести. Всё вышло из-за старой дуры-экономки. Она жила в учительском доме и содержала его в порядке так тихо и аккуратно, что мы её даже не замечали. Старушка была, конечно, золотая, никогда не ворчала и никого не воспитывала, и учитель весьма её чтил и ценил, но тут она дала маху. Обыкновенно экономка вытирала пыль в учительской комнате в его отсутствие, и дёрнул же её чёрт заняться этим делом при мастере! Тот, правда, не возражал - иначе она тотчас убралась бы восвояси. И вот, старушенция начала переворачивать вверх дном все вещи, хранившиеся в комнате, в числе которых оказалась и злополучная греческая книга. Надо же было Изамбару заявиться к учителю именно в ту минуту! Войдя в комнату с разрешения мастера, его юный друг застыл как вкопанный, уставившись на потрёпанный чёрный переплёт с золотым теснением. "Боже мой! - воскликнул Изамбар. - Учитель! У тебя есть Евклид!" "Эта книга досталась мне по наследству от одного из моих учёных родственников, - сказал учитель. - Она дорога мне как память". "Пожалуйста, позволь мне взглянуть", - попросил Изамбар дрожащим от волнения голосом. Мастер согласился с явной неохотой, видно, почуяв неладное. Раскрыв книгу и перевернув несколько страниц, его драгоценный приемник чуть не задохнулся от восторга и благоговения. "Боже! - воскликнул он снова. - Это она самая, книга Начал! Настоящая!" "Разве "Начала" Евклида - такая большая редкость? - спросил учитель. - Насколько мне известно, на эту книгу ссылаются многие учёные мужи, а значит, все они её читали". "Она не единожды переведена на латынь, но большинство переводчиков полагают, что, дополняя оригинальный текст собственными рассуждениями и комментариями, улучшают древний трактат, делая его более современным, - пустился в объяснения Изамбар. - Я встречал немало вариаций на эту тему. В последний раз я читал "Начала" на арабском, и то был самый точный перевод, близкий к древнегреческому тексту настолько, насколько позволяет современный арабский язык. А у тебя, дорогой учитель - настоящий Евклид и настоящая греческая геометрия! Я давно ищу эту книгу повсюду и не могу найти! Когда-то, когда я был ещё ребёнком, она сама пришла ко мне в руки, но тогда мне не хватило ни знаний, ни разумения постичь её мудрость. Будь добр, дай мне почитать её, всего на несколько дней!" Учитель попал в трудное положение. Любя Изамбара, как сына, он не имел ни повода, ни основания отказать ему. Но всё его нутро противилось этой просьбе. В ней звучала пламенная страсть, поистине ужасающая в существе гармоничном и лёгком, каким знал мастер своего приемника. Только теперь до нашего досточтимого дошло, что подразумевалось под наукой "о звёздном небе", которой Изамбар, по его собственному признанию, обучался у своего прежнего наставника. За поэтическим образом стояли строгие цифры, чертежи и вычисления, привычные юному Орфею не меньше, чем музыкальные гармонии, а также глубокое знание древних языков. Тут было от чего придти в ужас! Сердце столь образованного юноши не могло до конца отдаться музыке - ум тянул его назад к науке, а страсть к книгам оставалась его единственной подлинной страстью. Учитель пытался увести разговор в сторону, но безуспешно. Он раздражался и злился, и кончил тем, что принялся втолковывать Изамбару, как вредны для его голоса бдения над книгами в ущерб сну. Тот поклялся, что будет читать Евклида только днём. "Ты не можешь за себя ручаться! - кричал учитель. - У тебя глаза горят, как у одержимого, когда ты смотришь на эту книгу! Если я дам её тебе, ты не сумеешь оторваться от неё, пока не прочитаешь от корки до корки. А потом ещё схватишься за циркуль и начнёшь решать задачи!" Изамбар не стал спорить. Он восхитился учительской мудростью и проницательностью, назвал самого себя недостойным и презренным лжецом, но при этом повалился учителю в ноги, моля всё же дать ему книгу. Мастер видел, что Изамбар позволит бить себя палками, согласится пойти в рабство, примет смерть, но не отступится от своего желания. Проклятый Евклид застил ему белый свет! Учитель махнул на всё рукой и дал ему книгу, лишь бы не смотреть, как любимый ученик унижается перед ним, валяясь на полу и обнимая его за ноги, да ещё при старухе экономке, так и не догадавшейся убраться из комнаты. Учитель как в воду глядел! Овладев вожделенным Евклидом, Изамбар потерял счёт времени. Он заперся в мансарде и не появлялся дней шесть или семь, а потом я действительно увидел в его руках циркуль. Я никогда не смогу объяснить, монсеньор, как могла неодушевлённая вещь вызвать у меня столь живую, столь жгучую ненависть. Его циркуль словно проколол меня насквозь своей острой иглой. Но если бы дело было только во мне! Эта маленькая колючая штучка представлялась мне ядовитым драконьим зубом, коварно притаившимся в котомке юного странника, орудием убийства и убийцей. И дьявольская колючка оказалась именно тем, за что я её принял: она убила Орфея, превратив бесподобного музыканта в сумасшедшего математика, который шепчет свои формулы, как заклинания и улыбается бессмысленно-загадочной улыбкой. Хитрый циркуль долго прятался и выжидал, но лишь только пробил роковой час - превращение совершилось стремительно и необратимо. Конечно, присутствие циркуля в Изамбаровой котомке указывало на зёрна, уже брошенные в почву его ума и обречённые дать всходы. Полагаю, моё мучительно двойственное отношение к Изамбару объяснимо и тем, что я всегда обожал в нём музыканта и ненавидел математика, и пока первый бодрствовал, а второй спал, моя ненависть не могла овладеть мною. Но безжалостно холодная, блестящая ножка циркуля высекла её яркую вспышку. Я вдруг перестал ощущать неловкость, стоя под дверью мансарды и подглядывая за Изамбаром в замочную скважину. Прежде, при одной мысли о том, что он меня заметит или почувствует моё присутствие, меня бросало в дрожь. Теперь мне стало безразлично, что он обо мне подумает. Его преступление в моих глазах было несравнимо больше, чем моё. Я считал себя правым, а свой гнев - праведным. Я даже не стал утруждать себя стуком. Евклид к тому времени был изучен и, по завершению всех необходимых выписок, возвращён учителю, а дверь - не заперта. Я открыл её и вошёл. И прежде, чем Изамбар оторвался от своих чертежей и рассеянно уставился на меня, стоял посреди комнаты. "Да-да, - пробормотал он, вставая, - я совсем забыл… Пора в церковь. Сейчас, иду…" "Неужели? - усмехнулся я ему в лицо. - С чего это вдруг? Ты не был там уже неделю!" Изамбар всплеснул руками: "В самом деле?! Как нехорошо! Я ужасно виноват…" Однако же, я видел, что голова его всё ещё занята задачей, от которой я оторвал его. "Ты ужасно виноват, - передразнил я, - но тебе совсем не стыдно! А всё оттого, что учитель души в тебе не чает. Другой бы выгнал тебя к чёртовой матери, да ещё и всыпал бы как следует на дорожку. Но старик любит тебя и всё тебе спускает. Интересно, каково это, когда с тобой так носятся! Не даром говорят, человек не ценит того, что имеет. Ты вот сидишь тут дни и ночи напролёт и делаешь, что тебе нравится, а старик внизу только и охает, как бы не заболел его бесценный и единственный, но уже и беспокоить тебя не смеет. А я, между прочим, да будет тебе известно, с тех пор, как живу в этом доме, не пропустил ещё ни одной мессы. Наверное, будь у меня такой восхитительный голос и слух, мне бы тоже позволялось облагодетельствовать прихожан или лишать их удовольствия меня слышать, когда мне вздумается, по моему собственному усмотрению. Вот ведь парадокс! Или, быть может, мне следовало выучить греческий, чтобы стать такой же вольной птицей? Рутина будней - удел неучей. Образованный человек стоит на ступень выше. Так?" Изамбар забыл о своей геометрии и смотрел на меня теперь уже с настоящим ужасом в огромных чёрных глазах. "Нет, конечно! - воскликнул он с мукой. - О Господи! Что я натворил!" "Об этом я могу рассказать тебе довольно подробно, - ответил я холодно. - Если только тебе действительно интересно. Говорить?" "Да, - попросил он шёпотом, - пожалуйста…" И я сказал ему, монсеньор, всё, что только мог. Вся моя ненависть хлынула и излилась в словах. Никогда и ни с кем я не был так откровенен. Мне хотелось сделать ему как можно больнее, снова увидеть слёзы на его глазах. Но такие, как он плачут один раз в жизни и только от любви. А я для него всегда был пустым местом. Как и в ту памятную ночь, он лишь мучительно удивлялся. Я объяснил и доказал ему, что он вор, укравший у меня и учительскую любовь, и веру в свой талант. У меня, у которого не было за душой ничего, кроме музыки и моих жалких потуг в служении ей! Он же, одарённый от природы всем тем, о чём я не смел и мечтать, по сути, и не нуждавшийся ни в каком учителе, явился в этот дом с греческой книгой и циркулем в котомке, всегда готовый к отступлению. "Старик учил нас отдаваться музыке без остатка, - говорил я. - Ты обманул и его, и нас. За те пять уроков ты навсегда завоевал его сердце и подал нам пример, которому мы неспособны следовать, но лишь восхищаться. Если бы мы знали, что для тебя всё это - не более, чем очередное увлечение! Ты - баловень судьбы. Ты не знаешь цены тому, что имеешь, как капризный ребёнок богатых родителей. Люди обожают тебя за твои таланты, и ты безнаказанно делаешь всё, что тебе вздумается. Пока ты сидишь тут со своим циркулем, в церкви нас спрашивают о тебе каждый день. И что мы должны отвечать? Но тебе нет дела до людей, жаждущих слышать твой голос! Тебе наплевать и на учителя, который всё ещё не понял, что пригрел на груди змею и продолжает считать тебя музыкантом. Боюсь, когда старик узнает правду, пережить это ему будет трудно. Лучше бы тебя не было вовсе. Без тебя мы жили дружной семьёй, учитель любил нас всех, никого не выделяя, а мы не доставляли ему серьёзных огорчений. Если бы не ты, глядишь, мы бы ещё вышли в люди ему на радость. А теперь, по твоей милости узнав меру собственной бездарности, остаётся только удавиться. Ты посводил с ума весь город, погубил всех нас и разбиваешь сердце учителю, и всё это - между делом, почитывая свои книги, забавляясь с циркулем и ничего не замечая, потому что для тебя тут нет ничего особенного - привычные пустяки! Но для простых смертных, к коим ты, конечно, не относишься, твои пустяки и капризы оборачиваются горем. Вот что ты натворил и, очевидно, будешь творить всегда! Ты не можешь иначе". Кажется, монсеньор, тогда я сказал это намного грубее. Я не помню точно тех слов. Помню лишь, как моя ярость сменилась наслаждением, когда изумление в его глазах окончательно переплавилось в страдание - при таком выражении лицо Изамбара становилось особенно, утончённо прекрасным из-за разительного контраста между безмятежно спокойными чертами и жуткой, всепоглощающей глубиной зрачков. "Как это ужасно! - произнёс но после тяжёлого, вдумчивого молчания. - Я и представить себе не мог… Если бы я знал, то никогда не стал бы… Мне лучше уйти. Ведь если я уйду, вам будет легче? - Изамбар воззрился на меня робко-вопросительно. - Тогда я перестану мешать вам? Со временем вы забудете меня, как если бы я умер". "Ты действительно думаешь, что тебя можно забыть?" - спросил я с вызовом. Но он ухватился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку: "Меня не будет рядом, и вы заживёте, как жили прежде, словно я вам приснился. А я… Я надеялся, что мне не придётся делать выбор. Но я ошибся. По всему выходит, я должен выбирать одно из двух. Я уже думал об этом. Я люблю музыку и люблю математику. Мне было трудно. Но ты помог мне. Ты объяснил мне то, чего я сам никогда бы не понял. Спасибо!" Он сказал это слово, монсеньор, так, что у меня дрогнуло сердце, и посмотрел тепло, почти с любовью. "Я выбираю математику. И, пожалуй, пойду в монахи…" "Куда-а?" - переспросил я, полагая, что ослышался. Чего-чего, а уж такого поворота я никак не ожидал. "Постригусь в монахи, - произнёс Изамбар уже уверенно, воодушевляясь своим решением. - Я слышал, недалеко от Долэна есть обитель с огромной библиотекой. Там собрано множество греческих книг. Я пойду туда". Я сразу догадался, от кого он мог это слышать: конечно, от звонаря, а тот, в свою очередь, - от прежнего каноника! "Вот только учитель! - прибавил Изамбар сокрушённо. - Что скажет учитель?" Я хотел заметить, что он мог бы подумать об учителе и раньше, но Изамбар вдруг кинулся к выходу и помчался вниз по лестнице. Он всегда был лёгок на ногу. Я и глазом моргнуть не успел! А через миг обмер и чуть не задохнулся. До меня вдруг дошло, чем всё это может кончиться! Ведь Изамбар со своими понятиями об учителях, которых он набрался Бог знает где, то ли у греков, то ли у арабов, никогда не заявится к досточтимому, чтобы попросту сказать ему "прощай"! Он непременно повалится учителю в ноги, покается в грехах, попросит простить его и отпустить с миром. И если мастер не позволит ему уйти, Изамбар останется. Какой монастырь без учительского благословения?! А досточтимый, скорее всего, отпускать его не захочет. Он спросит, с чего вдруг "дорогому мальчику" взбрела в голову такая блажь. Одно случайное слово Изамбара - и учитель поймёт, чья это работа. И, вероятнее всего, на дверь будет указано мне. |
| 31 32 ЧАСТЬ ВТОРАЯ Страница № 33 34 35 |
Повесть "Другое время" публикуется в сокращении.
|
Copyright © И.Жарова 2005-2008 |
web design by Alex Wave |