 Поэзия
Поэзия  Статьи
Статьи
 Образы
Образы  Ссылки
Ссылки
Главная  Поэзия
Поэзия  Статьи Статьи
 Образы Образы  Ссылки
Ссылки
|
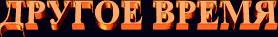
| Страница № 22 |
|
Из уст любого из нас такие ответы звучали бы дерзостью, но из его уст от них веяло детской чистотой
и неюношеской мудростью. Он говорил всё это с глубочайшим почтением и без тени сомнения в том, что
собеседник поймёт его верно. И, как оказалось, не ошибся. Тем более, что Изамбар всё-таки ответил
неуклончиво на два конкретных вопроса, волновавших нашего учителя больше, чем все прочие. Он
подробнейшим образом рассказал о своём инструменте, начиная с пород деревьев, взятых для
изготовления корпуса и грифа, и заканчивая длиной струн, толщиной каждой из них, силой натяжения,
расстоянием между четвертьтонами по всему диапазону и связи этих расстояний с вышеупомянутыми
величинами, таким образом описав и объяснив его строй, столь непривычный нашему слуху, причём,
объяснив математически. Он с головой засыпал нас терминами и цифрами, в которых мы ни черта не
смыслили. Учитель, однако, улавливал его мысль и слушал с огромным интересом. Второе объяснение
касалось жалкого состояния его обуви. Наш добрейший мастер просто не мог взять в толк, как такой
выдающийся музыкант, да ещё с таким необыкновенным инструментом, шёл пешком по пыльным дорогам,
по которым ходить в одиночку совсем не безопасно, нищий, голодный, почти босой. Изамбар признался,
что пешком он идёт относительно недолго, с тех пор, как истратил всё что имел на некую вещь
ради науки своего прежнего учителя. Очевидно, в его маленькой котомке хранилась какая-нибудь
редкая книга, и кроме этого сокровища поместиться там уже не могло ничего. Учитель сказал, что первый урок может дать ему завтра после вечерней мессы, а сегодня был бы чрезвычайно счастлив, если бы Изамбар поиграл на своём инструменте ещё хоть немного. Юноша не заставил себя упрашивать. Мы слушали Изамбара до самого вечера, пока не пришло время собираться на богослужение, в котором все ученики участвовали вместе с мастером в качестве хора и под его руководством исполняли псалмы и гимны. Благодаря юношу за прекрасную игру, учитель пригласил его пойти в собор вместе и послушать наше пение, после чего вернуться и остаться на ночь в учительском доме, где для дорогого гостя, конечно же, найдётся место. Первое предложение Изамбар принял охотно, от второго же отказался, заверив радушного хозяина, что уже нашёл себе ночлег, а потому не станет злоупотреблять учительским гостеприимством, и умудрился сказать это с таким тактом, что не встретил обычных в подобных случаях протестов, хотя, я твёрдо знаю, учителю очень не хотелось отпускать его далеко от себя. В тот вечер, монсеньор, я был так вдохновлён игрой Изамбара, что, глядя с высоты хоров в гущу молящихся и отыскивая его маленькую фигурку, пел, как не пел больше никогда за всю мою жизнь. Мой голос вдруг обрёл необычайную силу, о которой я мог лишь мечтать, и эта сила освобождала меня от всякого плотского стеснения, от страха неблагозвучия и фальши - мой голос осваивал простор огромного храма и завоёвывал его без борьбы звуками хоралов с той же совершенной ясностью и безошибочной точностью, что услышал я в игре Изамбара. Я пел всей душой и всем естеством, словно превращаясь в один только голос. И я любил. Любил свой голос, любил музыку и учителя, любил Бога, любил людей, что меня слушали. Но более, чем всех и вся, я любил Изамбара. Я любил в нём то совершенство, на которое откликнулась лучшая часть меня самого, и любовь моя была свободна от зависти и ревности в те краткие минуты счастья. Я не думал о том, долго ли оно продлится. На самом деле я пел тогда для него одного. |
|
Монсеньор Доминик понимал сейчас этого неудавшегося музыканта и ещё менее удавшегося монаха гораздо
больше, чем тот мог себе представить. Чуждый музыке, епископ, тем не менее, познал то же счастье -
ещё вчера оно наполняло его и казалось вечным, а сегодня от этого счастья осталась лишь память,
от которой щемило сердце. Монсеньор Доминик смотрел на человека, до сердцевины изъеденного тоской.
Минувшие годы лишь усиливали эту тоску, доводя до отчаянья. Органист поднял на епископа свои глаза-чаши, полные жгучей горечи, но они по-прежнему смотрели в прошлое и не видели ни настороженного слушателя, ни беззаботного, залитого солнцем мира. |
|
- А на другой день вечером Изамбар явился к учителю за обещанным уроком. Он был одет в светлую
блузу, темно-синие штаны и короткую курточку, и всё это сидело на нём как влитое. На голове его
красовалась маленькая чёрная шапочка, на ногах - модные остроносые туфли. Такой костюм выдавал
желание странствующего музыканта почувствовать себя одним из нас, учеников знаменитого Волшебника
Лютни, причислявших себя к золотой молодёжи вольного города Гальмена, и в самом деле служивших в
одежде образцом для подражания юношам из купеческих домов, перенимавших у нас фасоны платья и, по
нашему мнению, опошлявших капризы нашего тонкого вкуса ненужной роскошью. Сказать по чести, мы
могли бы поспорить с самыми отпетыми модницами, пускавшими по миру своих богатеньких муженьков
из-за неуёмной жажды новизны в нарядах. Но нашим козырем всегда оставалось богатство воображения
и невозмутимое достоинство жрецов искусства, позволявшие нам превратить поношенную, а то и вовсе
прохудившуюся вещь в нечто доселе невообразимое при помощи очередного трюка, который уже на
другой день оказывался замеченным и многократно исполненным в шёлке, бархате, парче и золотом
шитье. Если бы наши подражатели догадывались, что очередная оригинальная подвязка или
восхитительная драпировка служит двоякой цели, не только радуя глаз, но и скрывая от него дыру
или прореху! Наверное, они возмутились бы и, почувствовав себя оскорблёнными, отколотили бы нас
на славу, что, однако, не прибавило бы им ни вкуса, ни фантазии. Проявляй мы столь же
безграничную и независимую фантазию в музыке, то давно бы уже слезли с учительской шеи и
умножили бы его славу своей собственной, как достойные последователи этого достойнейшего из
музыкантов. Впрочем, я несколько отвлёкся… Так вот, глядя на костюм Изамбара, недорогой, но красивый, чрезвычайно ему подходящий, я уловил желание походить на нас и как можно меньше выделяться. Желание неумелое и по сути неосуществимое. Во-первых, наивный юноша пытался перенять стиль, в основе которого лежало стремление выделиться. А во-вторых, именно ему было одинаково сложно раствориться как в рыночной толпе, так и в кругу молодых франтов, помешанных на своей творческой неповторимости - он был слишком странен и по-настоящему неповторим, а в манере носить платье обнаруживал такое врождённое благородство, такое небрежное изящество, что мог бы стать либо нашим королём и кумиром, либо непобедимым соперником и общим врагом. Но всё это было ему невдомёк. Так случилось, что в тот второй вечер именно я на некоторое время оказался с ним наедине. Задерживаясь в церкви, учитель послал меня домой встретить чудного странника и попросить его чуть-чуть обождать. Казалось бы, мне предоставлялась счастливая возможность побеседовать с загадочным музыкантом с глазу на глаз, познакомиться с ним поближе и, быть может, узнать что-то, чего он не сказал бы даже учителю - ведь в такие минуты сверстники легко доверяются друг другу. Тем более, что Изамбар всем видом давал мне понять свою готовность к беседе и интерес к моей персоне. И моим истинным желанием было высказать восхищение его музыкальным дарованием и поблагодарить за своё вчерашнее вдохновение, которым я был обязан ему. Но вместо этого я надулся, как сыч. Мы уселись в кресла друг перед другом. Изамбар пару раз попытался о чём-то спросить меня, и довольно было одного моего открытого взгляда, чтобы он, переполненный впечатлениями дня, защебетал певчей птичкой, но я лишь бурчал себе под нос, продолжая украдкой разглядывать его новую одежду и размышлять об обречённости его попыток войти в наш круг, стать одним из нас. После всего, что сказал о нём наш учитель, этому юному гению среди нас, посредственностей, ловить было нечего. Мы сидели в неловком молчании, от которого мне казалось - учитель застрял в церкви навсегда. Видя, что разговор со мной никак не склеить, Изамбар спросил позволения поиграть - "тихонечко", как он выразился. "Играй, конечно", - буркнул я, сам на себя дивясь: вместо радостного предвкушения нового чуда я испытывал досаду, подозревая, что он собирается ещё раз блеснуть своим мастерством, теперь уже передо мной одним. Но как только он заиграл, мне стало стыдно за ту минуту, и стыдно до сих пор: в отличие от меня, которому всегда нравилось именно казаться и называться музыкантом, он был таковым, а значит, испытывая волнение, смущение, печаль - любое сильное чувство - тянулся к своему инструменту, тянулся бессознательно, как голодный младенец - к материнской груди. Видно, моя враждебность зацепила его за душу, потому что его игра, в свою очередь, зацепила меня, так глубоко, так сильно, что доставляла настоящую боль. Если в первый вечер голос его волшебного инструмента проникал в меня и вызывал ответные чувства, то теперь у меня было ясное ощущение, что звуки исходят из моего собственного сердца. Он играл меня на своих четырёх струнах так, как можно вслух читать книгу! Две музыкальные темы боролись между собой и пытались развиваться в этой борьбе, перебивая друг друга, порой сливаясь в поисках третьей как общей гармонической основы для обеих, но ни одна не шла навстречу другой - развития не получалось. Одну из этих двух я сравнил бы с юной восторженной особой, страстной скороговоркой тараторящей о своей любви, мечтах и надеждах, причем не кому-то, а всему свету, и прежде всего - себе самой, лишь себя и слыша. Вторая же, напротив, звучала именно в пику первой, а поскольку та всё твердила своё, одно и то же - перебивала её, стремясь заглушить. Вторая напоминала старуху, что видит свой святой долг в брюзжании, ворчании, ядовитых сплетнях и разрушении воздушных замков, построенных глупой молодостью из-за отсутствия того бесценного опыта, которым она, кладезь житейской мудрости, так настойчиво стремилась поделиться. Мои сравнения, монсеньор - всего лишь слова, пустые и жалкие. Они не могут передать того, что я почувствовал и понял. Я осознал, что незнакомый юноша, который видит меня второй раз в жизни, каким-то необъяснимым образом ухватил за корень всю мою беду и выразил её в звуках: и бесплодную восторженность, слишком бурную и саму себя захлёстывающую, и ту глубокую червоточину, что старит душу раньше срока, убивая в ней всякую подлинную веру, находя во всём одни изъяны, высмеивая самые сокровенные стремления, обосновывая лень и чёрствость. Я осознал мою раздвоенность и роковой разлад, явственно, как никогда прежде. Но осознание само по себе не могло принести мне избавления, а лишь причиняло боль. Я понимал, что должен быть благодарен Изамбару, приоткрывшему мне тайну меня самого своей колдовской музыкой, но, как раненый зверь, я боролся с желанием зарычать и вцепиться ему в горло. Разумеется, моя "старческая" половина сразу ухватилась за мысль о колдовстве. Уже тогда, на второй день нашего знакомства, я испытал прилив жгучей ненависти к Изамбару. "Ты плохо кончишь! Смертному не позволено копать так глубоко. Когда-нибудь тебя сожгут или забросают камнями за то, что ты делаешь!" - вот что я подумал, монсеньор. И нисколько не сомневался, что так оно и случится. А он… Он вдруг оборвал свою игру, не закончив такта, и… Запел! Вам, конечно, говорили, монсеньор, какой у него голос. "Божественный", "небесный", "ангельский"… Что ещё могут сказать монахи? - органист скорбно улыбнулся. - Всё это, опять же, лишь слова. Его голос описать невозможно. Я знаю только, что когда он поёт, я его обожаю. Я слушаю его и становлюсь с ним одним целым. Я становлюсь ИМ, чувствую как ОН, вижу, знаю… Люблю. Это - свет и тишина сердца. Это - покой. Если бы он мог петь не переставая, всё время, на землю спустился бы Рай. Но когда я не слышу его голоса, я тоскую в себе самом. Я хочу быть ИМ, зная, что я - чудовище, двухголовый дракон, сам себя пожирающий, а ОН - совершенство. Я ненавижу за это его и себя. И я обожаю его совершенство. Обожаю и жажду… Потому что его голос невозможно забыть. Даже когда его не станет… Эстебан не мог больше плакать, исчерпав все свои слёзы, но тяжёлый ком неумолимо сдавил ему горло, и чтобы говорить дальше о голосе Изамбара, ему пришлось побороться за свой собственный с сухими глазами. - Тогда, когда я услышал его впервые, - скрепя сердце, продолжал органист, - он пел какую-то очень тихую, нежную, спокойную песню на языке, которого я не знаю, и аккомпанировал себе едва уловимой подзвучкой, еле-еле дотрагиваясь до струн. Мелодия была простая, но непривычная по строю. Мне отчего-то кажется, что это арабская песня, и поётся в ней о давным-давно умершей возлюбленной, чей голос состарившийся поэт продолжает слышать в говоре ручья и дуновении ветра. Пока я слушал песню, мне как будто были понятны незнакомые слова. Печаль лишь угадывалась в её мелодии, лёгкой, как дыхание. Изамбар пел так самозабвенно, а я слушал так зачарованно, что мы не заметили, как вошёл учитель. Очнувшись, мы вернулись каждый к своему: Изамбар - к неловкости и смущению перед учительским восторгом, я - к ревности и чёрной зависти. Моё вчерашнее вдохновенное пение теперь вызывало у меня лишь горькую усмешку. И я понял, что больше уже никогда не найду радости в собственном пении - после Изамбара мне не стоит вовсе раскрывать рта. |
| 21 ЧАСТЬ ВТОРАЯ Страница № 22 23 24 25 |
Повесть "Другое время" публикуется в сокращении.
|
Copyright © И.Жарова 2005-2008 |
web design by Alex Wave |