 Поэзия
Поэзия  Статьи
Статьи
 Образы
Образы  Ссылки
Ссылки
Главная  Поэзия
Поэзия  Статьи Статьи
 Образы Образы  Ссылки
Ссылки
|
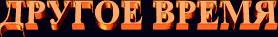
| Страница № 24 |
|
Вечером первого дня, когда всё закончилось, дверь распахнулась и Изамбар, шатаясь, вышел оттуда,
как из застенка, сквозь тёмный загар на его щеках проступала землистая бледность. Он крепко обнимал
и прижимал к себе учительскую лютню, боясь уронить её и при этом ничуть не заботясь о том, чтобы
не упасть самому. Конечно, я проводил его наверх, в его комнату, и он не забыл поблагодарить меня,
глядя своими огромными, ничего не видящими глазами, полными глубоко затаённого огня, какого я
никогда в них больше не видел. Там были и восторг, и боль, и изумление, и жажда постижения, и
счастье, и ужас - всё сразу, в немыслимом сплаве и напряжении. И когда я затворил за собой дверь,
из-за неё послышались звуки последнего упражнения. Вот и скажите теперь, монсеньор, что он не был сумасшедшим с самого начала! Я понял, что нахожусь в одном доме с двумя помешанными, один из которых - буйный, а другой - тихий, и только любопытство, желание узнать, чем кончится это безумие, кто сдастся первым, удержало меня от желания бежать без оглядки. Очевидно, если бы не любопытство, в те дни учитель лишился бы всех своих учеников, близких к тому, чтобы покинуть его всегда тихий и уютный дом, как крысы - тонущий корабль. И, надо думать, старик не стал бы по нам плакать. Теперь у него был Изамбар, который один стоил больше всех нас вместе взятых, и учитель принялся испытывать его не без азарта. Я же наблюдал происходящее со смесью злорадства, восхищения и искреннего сострадания, переходящего в страх за этого юношу, почти мальчика, чья хрупкость сама по себе заставляла теряться в догадках, как ещё держится в нём душа! Я нисколько не сомневался - он заслуживал всего того, что получил, всего, о чём сам же и просил. Он без единого слова вытащил из меня мою сокровенную, мою мучительную тайну и сыграл её на струнах; восхваляя музыку учителя, поклоняясь ему как музыканту и призывая оставить излишнюю снисходительность, он умудрился, сохраняя почтительность, в то же время оскорбить старика, обвинив в лицемерии и предательстве себя самого в угоду благонравию и посредственности. Он задел учителя не меньше, чем задел меня, и старый музыкант, отвечая на вызов ученика, стряхнул с себя пыль терпимости. Я ждал, что дерзкий смельчак погибнет в лаве разбуженного им вулкана. Учитель мстил ему за нас обоих, и он должен был погибнуть! Утром второго дня, когда я вошёл в гостиную, сверху доносился тихий перезвон лютневых струн. И всякий раз, когда я заходил туда, он не смолкал ни на миг. Наверное, Изамбар играл и ночью, и спал не более трёх часов. Он не спускался вниз и не выпускал из рук инструмента, пока учитель, отыграв в церкви Вечерню, не позвал его на урок. Я снова притаился за дверью. Они начали с повторения вчерашних упражнений, которые были сыграны без единой запинки, не вызвав учительского гнева, а только лишь пару сухих замечаний. Новые упражнения, одно другого сложнее, я сам не сыграл бы идеально, хоть среди учеников считался далеко не последним лютнистом. И стоило Изамбару чуть ошибиться, всё начиналось с начала: требование повторить, ещё и ещё, окрики и удары… Не знаю, чем бил его учитель (должно быть всем, что попадалось на глаза), но только после этого урока я увидел на руках Изамбара, прижимавших к груди драгоценную лютню, синяки и кровоподтёки, и особенно досталось правой. Упражнения третьего дня были мне вовсе незнакомы. На четвёртый день учитель требовал от Изамбара такой ловкости пальцев, таких заковыристых скоростных переходов и ритмических трюков, что я даже не был в состоянии ни понять, ни оценить их по достоинству, и он с ними почти справлялся. А когда не справлялся, то неизменно получал по рукам. Учитель перестал кричать на него, но бил педантично и аккуратно; мне уже не хватало ни слуха, ни чувства ритма уловить - за что. Последние три упражнения Изамбар повторил не менее чем по десять раз - каждое, и, как мне показалось, безупречно, но ответом ему был град ударов и приказание не появляться перед учителем до тех пор, пока переходы не станут по-настоящему отчётливыми. Он вышел чуть живой, еле переставляя ноги, с плотно сжатыми бледно-синими губами. Синяки и багровые полосы виднелись у него на запястьях, на шее, даже на щеках. Старик бил его по лицу. Я бы не стерпел такого ни от кого и ни за что на свете! Да и Изамбару его терпение далось дорого. В ту ночь он не играл. Зато утром взялся за дело с удвоенным рвением. Во время пятого урока Изамбар сыграл все учительские упражнения от первого до последнего, сыграл не только с точностью, но и с чувством, каждое - со своим, свежим и ярким, пережитым и выстраданным. Учитель слушал его, не прерывая, а когда Изамбар закончил, сказал: "Половину из этих приёмов я сочинил сам. Я говорю, как ты можешь догадаться, о второй половине. В ней - основные секреты моего мастерства, за которое меня прозвали Волшебником Лютни. Последние три упражнения современные лютнисты считают невыполнимыми. Многие из них отдали бы душу за то, что стоило тебе пяти дней терпеливого труда и нескольких пощёчин. Теперь твои руки знают и чувствуют лютню. Играй, мой мальчик, играй, отдай ей всё сердце, и ты станешь её Королём. Да ты ведь и так уже это делаешь!" "Спасибо, учитель! - взволнованно ответил Изамбар. - Но я хочу учиться у тебя и дальше. Я хочу играть с тобой". "Ну что же, давай попробуем", - согласился мастер. |
|
И они попробовали, монсеньор! Я стоял за дверью и слушал их дуэт, не зная, что уже далеко заполночь.
Они никак не могли остановиться. Честно говоря, до того дня я толком и не понимал, за что нашего
учителя прозвали Королём и Волшебником Лютни. Но добрейшего старичка, посадившего к себе на шею
ораву молодых оболтусов, больше не было. Настоящий Волшебник Лютни, которого мы никогда не знали
и к которому пришёл Изамбар по пыльным дорогам из неведомых далей, восстал из небытия. Его музыка
срывала и осмеивала покровы привычного, вскрывая двойное дно вещей. Знакомые мелодии простеньких
любовных песенок вдруг обретали глубину, загорались страстью, усложнялись до неузнаваемости,
торжественные хвалебные гимны и придворные танцы окрашивались горькой иронией, их
величественность переходила в тяжеловесность, подавляя себя самоё, трагически обречённая, она
повествовала об узах земной власти, обессиливающей своих узников. Старый музыкант мог выразить
в звуках любое чувство, любую мысль, любую вещь мира! Это было нескончаемое превращение одного
в другое. Своими хитрыми, непостижимыми для меня приёмами, которым он обучил Изамбара, мастер
извлекал из лютни такие многоголосья, добивался такой осязаемой силы звучания, а ученик вторил
ему, подхватывая, продолжая и расцвечивая, так уверенно и чутко, что казалось, слились в игре
не два, а четыре инструмента. О, эта игра стоила свеч! Она стоила куда дороже, чем пять дней
непрерывных мучений заковыристыми трюками для пальцев и учительские побои! Слушая её, я уже не
считал Изамбара сумасшедшим. Другое дело, что меня, как и любого из моих товарищей, можно
было забить насмерть, порвать на кусочки, так и не добившись ничего путного. В ту ночь я узнал, чьим учеником я самонадеянно считал себя уже не первый год. Как и все мои товарищи, я жестоко заблуждался. Волшебник Лютни даже не пытался учить нас своему настоящему мастерству. Он не метал жемчуга перед свиньями. Более того - он никогда не играл нам своей лютневой музыки, хотя мы знали, что каждая вторая песня, бойко распеваемая новомодными трубадурами, написана на украденную у него мелодию. Он показывал нам, как можно развить и украсить такую мелодию, упрощённую до пошлости уличными певцами, вернуть ей самобытность, вдохнуть в неё жизнь, и мы, не имея понятия о сокровище оригинала, с успехом бренчали лунными вечерами под окнами своих девиц. Этого нам было довольно, чтобы считать себя хорошими лютнистами. Если прибавить душещипательно-сладкое удовлетворение, с которым, спускаясь с хоров после мессы, мы наблюдали заплаканные лица выходящих из церкви женщин и, разумеется, ставили эти слёзы в заслугу прежде всего своему пению, а уж потом - собственно религиозным чувствам и игре учителя - чего ещё нам было желать? Кому из нас приходило в голову усомниться в искренности учительского "хорошо" и его ласковой улыбки? Кто мог догадаться, что это "хорошо" - лишь проверка на чистоту слуха? Наши глухие сердца не слышали фальши, не слышали и не хотели слышать. Только истинный музыкант, тот, для кого фальшь - нестерпимая боль, и лучше плётка, чем ложь - только тот, чьё сердце и уши слышат одинаково чутко, мог подобрать ключ к этой двери, войти и быть посвящённым. Учитель охранял своё знание и ждал так долго, что, казалось, и сам уже начал забывать, что ждёт. И всё-таки он дождался. Я радовался бы за него, если бы мне не было так горько за себя. Я не мог быть его учеником и не смог бы стать никогда. Я не музыкант, а всего лишь лицедей, как все обыкновенные люди, втянутый в общепринятую игру мин, поз и жестов, всегда готовый гримасничать и верить гримасам, только бы сохранить свою шкуру. Те двое, что играли за дверью, были сделаны из другого теста. Они могли сыграть на струнах и человеческую ложь, и божественную истину, потому что без остатка отдали себя Музыке. В ту ночь я понял, монсеньор, что Музыка - божество ревнивое, и от тех, кто заботится о себе и скупится на жертвы, оно отворачивается навсегда. И, поняв это, мне следовало покинуть учительский дом, совершив в своей жизни хоть один честный поступок. Тогда, монсеньор, я не погубил бы ни своей души, ни чужой судьбы… Но честные поступки требуют слишком много мужества. Я не смог отказаться от красивой позы музыканта, ученика знаменитого учителя. Я стоял под дверью, обливаясь слезами, слушал нескончаемый каскад чарующих звуков, ласкающих слух и разрывающих душу, и со страхом думал о том, что теперь, когда у мастера есть достойный приемник, нас, остальных, он вышвырнет на улицу, как сброд, способный лишь вызывать у него досаду. К стыду моему, я подозревал, что и учительская доброта была лишь маской. Я не мог взять в толк, как он терпел нас до сих пор! И даже теперь с трудом понимаю, как он терпел нас и дальше… Все эти мысли, как ни странно, не мешали мне наслаждаться и мучиться игрой двоих счастливцев, что нашли друг друга. Изамбар влёт подхватывал учительские темы, тонко обыгрывал, мягко, любовно стелил бархатные басовые подзвучки. Как он угадывал развитие музыкальной мысли, как чувствовал мастера, как сопереживал ему! Внезапно игра оборвалась странным глухим звуком. На несколько мгновений повисла тишина, потом раздался испуганный учительский возглас, дверь распахнулась, ударив меня по лбу, и из неё, чуть не сбив меня с ног, вылетел мастер. Всклокоченная грива его седых волос стояла дыбом, глаза вылезли из орбит, лицо исказилось от ужаса и смятения, движения были размашисто-порывисты. Я никогда не видел его таким. "Воды!" - заорал он, увидев меня и даже не подумав удивиться моему присутствию под его дверью глубокой ночью, - "Воды! Живо!" Разумеется, я помчался сломя голову. Когда я вернулся с кувшином, Изамбар полулежал в кресле, лютня валялась на полу, а учитель суетился над бесчувственным телом, как большая птица над птенцом. Он пытался освободить юноше грудь, но руки его дрожали слишком сильно. Я хотел помочь ему, но он вырвал у меня кувшин и оттолкнул. "Не смей прикасаться к нему!" - завопил мастер. "Ты его замучил!" - сам того не ожидая, зло ответил я. "Молчи! Прочь!" - крикнул он ещё громче, отмахиваясь от меня руками, а я повторил спокойно и отчётливо, но ещё злее: "Ты замучил его своей музыкой. Он не спал четыре ночи и не съел ни крошки! - и прибавил, наслаждаясь ужасом, заливающим глаза учителя: - Он умрёт". "Молчи, дьявол!" - прошипел мастер, и я понял, что если скажу ещё хоть слово, то получу по голове этим самым кувшином, из которого он поливал голову Изамбара. Спасло меня и то, что предсказание моё не сбылось, и юноша очнулся. "Мальчик мой дорогой! - воскликнул учитель, опустившись на колени, и принялся целовать его бледные впалые щёки. - Радость моя!" Изамбар попытался что-то ответить, но с его губ не слетело ни звука. Кажется, он хотел спросить, понравилась ли учителю его игра, а тот продолжал причитать над ним, как баба над дитём, до тех пор, пока не заметил, что "его дорогой мальчик" дрожит от холода, и не догадался стащить с него мокрую рубаху. И когда я увидел щуплые плечи, сплошь покрытые синяками, то подумал о том, как сильно скромничал учитель, говоря о нескольких пощёчинах. Он понял это и сам, потому что глаза его затуманились, а следующий букет поцелуев лёг туда, где прежде прошлась, как мне показалось, палка, и он спросил не менее трёх раз, очень ли больно было "милому мальчику". Изамбар снова пытался что-то ответить, но его не слушался не только голос - даже губы; пытался приподнять руки и обнять учителя, и тоже не смог. А тот взял с пола лютню и сказал, что дарит её ему, и что теперь его, Изамбара, станут называть Королём и Волшебником Лютни, потому что Изамбар - гений, он - чудо, он играет, как бог. Юноша в третий раз зашевелил губами и, наконец, мы прочли по ним то, что он хотел сказать учителю: "Я хочу играть с тобой". После этого, улыбнувшись беззаботно и блаженно, как умеют только совсем маленькие дети да ещё, наверное, небожители, он закрыл глаза и в тот же миг крепко уснул. Изамбар спал два дня и две ночи, не просыпаясь и даже не меняя позы. Учитель уложил его у себя, а сам устроился рядом в кресле, и дремал лишь изредка, урывками. Обеспокоенный столь долгим и глубоким сном своего юного друга, он не хотел оставлять его ни единой лишней минуты и после богослужений в церкви мчался домой так, что догнать его не запыхавшись было невозможно, будто к нему и вправду вернулась молодость. Ни музыки, ни пения не звучало в те два дня в большом доме, где лютнистов всегда было больше чем комнат, а инструментов - больше чем музыкантов. Все ходили на цыпочках мимо заветной двери, все разговаривали шёпотом. |
| 21 22 23 ЧАСТЬ ВТОРАЯ Страница № 24 25 |
Повесть "Другое время" публикуется в сокращении.
|
Copyright © И.Жарова 2005-2008 |
web design by Alex Wave |